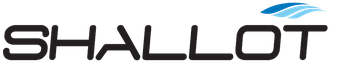Вооружённые силы в эпоху Ивана III Великого и Ивана IV Грозного. Бойцы русской поместной конницы. Середина XVI в Дворянское войско
Русская поместная конница в XVI столетии являлась решающей военной силой во всех военных предприятиях российского государства.XVI в. был временем активной экспансии, собирания земель под рукой Москвы. Повышенная внешнеполитическая активность требовала обеспечения в виде многочисленной и мобильной армии, способной быстро перемещаться в тот или иной район для проведения наступательных или оборонительных акций либо просто для демонстрации силы. Именно конница отвечала всем этим требованиям. И хотя пехота и артиллерия с каждым годом становились все более важной составляющей военной силы страны, только конные полки могли обеспечить решение тактических и стратегических задач. Они завязывали бой, прикрывали отступление, развивали успех в случае победы, вели разведку и контролировали маршевые колонны. В процессе складывания территориальных основ России конница применялась не только по прямому военному назначению. Небольшие отряды отправлялись в длительные экспедиции, которые являлись одновременно разведкой, завоевательным походом, исследовательским туром, посольской, торговой и старательской миссией и, наконец, невероятным приключением для всех, кому не сиделось дома на печи.

Боец поместной конницы являлся универсальным воином, владевшим всеми видами наступательного вооружения. Иностранные путешественники неизменно высоко оценивали профессиональную подготовку русских конных воинов. Сигизмунд Герберштейн в «Записках о московитских делах» удивлялся, как московиты умудряются на скаку пользоваться одновременно уздой, саблей, плетью и луком со стрелами. Русский всадник был хорошим, крепким бойцом. Кроме того, новая система поместного комплектования войска позволила собирать невиданные для предыдущей эпохи армии до 100-150 тысяч человек. Словом, как поется в казачьей песне XIX в.: ««Верь и надейся, Русь безопасна, русского войска сила крепка». Учитывая вышеизложенное, победы и успехи русского оружия выглядят (почти всегда) оправданными и закономерными. О поражениях бывает страшно и горько читать, понимая, что люди гибли и попадали в плен тысячами по вине халатного и неорганизованного командования.
Например, во время второй казанской войны 1523 г. огромное московское войско в 150 тысяч человек, двигаясь тремя колоннами, пришло под Казань разрозненно, причем артиллерия и обоз опоздали на месяц! От полного уничтожения армию спасли решительные действия русской конницы, которая 15 августа1524 г. нанесла поражение татарам на Утяковом поле (правый берег реки Свияги) и заставила их отойти под стены Казани.
Основы тактики русской конницы начали складываться еще в XIII-XIV вв. Именно тогда распространяется и совершенствуется тактика боя с поочередными соступами и многочастное построение войска для битвы. К концу XV в. данная тактика полностью приспосабливается к условиям легкоконного боя. Легкие седла с пологими луками и короткими стременами делали невозможным таранный копейный удар, превалировавший в качестве средства атаки в эпоху классического Средневековья. Высокая посадка, по замечанию С. Гербер штейна, не давала «... выдержать несколько более сильного удара копья..», но зато предоставляла широкие возможности для ведения маневренного боя. Сидя в седле с полусогнутыми ногами, воин мог ногами, воин мог легко привставать в стременах, быстро поворачиваться в стороны, стреляя из лука, метая сулицы или действуя саблей. Тактика русской конницы, таким образом, по объективным причинам стала в общих чертах напоминать тактику легкой восточной конницы. Германский историк А. Кранц точно и подробно описывал ее: «...набегая большими вереницами, бросают копья (сулицы. - Авто) и ударяют мечами или саблями и скоро отступают назад» (цит. по Кирпичникову, 1976).



Вооружение конницы включало весь набор боевых средств своего времени, кроме выраженных пехотных «инструментов» - таких, как бердыш, рогатинаили сошная пищаль. Причем защитное вооружение развивалось почти исключительно в среде конницы, так как пехотаиграла роль стрелков и не нуждалась в развитой защите, кроме, разве что, переносных щитов.
Как отмечалось выше, наступательное вооружение было приспособлено для нужд легкой конницы. Копья перестают быть главным орудием конной борьбы, хотя и не исчезают совсем из обихода. Наконечники копий теряют массивность, по основным геометрическим характеристикам совпадая с образцами XIV-XV вв. Впервые после XII в. широко распространяются пики. Они характеризуются узким3-4гранным пером, не больше 30 мм Втулки почти не имеют выраженной шейки, кроме того, основание пера часто усиливается сферическимили биконическим утолщением, что было вызвано стремлением придать максимальную жесткость узкому телу пики. Той же цели служили граненые и витые втулки. Хорошая коллекция пик 1540 г. была обнаружена в Ипатьевском переулке Москвы. Показательно, что на десять найденных пик пришлось одно копье и одна рогатина. Видимо, именно пика становится основным древковым оружием конницы, к началу XVII в. совершенно вытеснив копье, что подтверждается археологическими находками, например в Тушинском лагере. Сабля и палаш были основным оружием ближнего боя. В основном они повторяли формы клинкового оружия Передней и Средней Азии, хотя использовались и европейские, особенно венгерские и польские образцы. В качестве вспомогательного оружия были распространены кончары - мечи с узким длинным лезвием для поражения сквозь кольчуги. Ограниченно употреблялись европейские мечи и шпаги.
В качестве оружия дистанционного боя главенствовал лук. Сложносоставные рефлексивные луки с набором стрел различного предназначения (от бронебойных до «срезней» 1) были незаменимым орудием поражения для легкого конника. У пояса или, чаще, у седла носились футляры с сулицами - «джериды». С 1520х гг. в среде конницы начинает распространяться огнестрельное оружие, что к 1560м гг. приобретает широкий размах. Об этом говорят сообщения Павла Иовия и Франческо Тьеполо о конных аркебузерах, конных стрельцах-пищальниках. Видимо, на вооружении конницы состояли короткие карабины, а к концу XVI в. - и пистолеты.
Защитное вооружение состояло преимущественно из гибких систем защиты. Большой популярностью пользовались «тягиляи» - стеганые на конском волосе и вате матерчатые длиннополые куртки с короткими рукавами, которые могли дополнительно прокладываться фрагментами кольчужного полотна. Они отличались значительной толщиной набивки и большим весом (возможно, до 10-15 кг), надежно защищая от стрел и сабель. После более чем столетнего перерыва популярность вновь обретает кольчуга или кольчатые системы защиты. Например, можно вспомнить панцири из плоских в сечении колец и байданы - панцири с увеличенными кольцами. В XIV в. появились различные кольчато-пластинчатые доспехи. К XVI столетию они стали преобладающими системами защиты с включением пластинчатых конструкций. Представляется возможным выделить три основные группы кольчато-пластинчатых доспехов. Все они имели покрой обычных рубах с короткими рукавами (или вовсе без рукавов) и пластинчатыми включениями только на груди и спине. Первая группа - ««бехтерцы», которые состояли из нескольких вертикальных рядов узких прямоугольных пластин, расположенных горизонтально, находящих друг на друга и соединенных по бокам кольчужным плетением. Вторая группа - «юшманы», отличавшиеся отбехтерцов размерами пластин, которые у юшманов были гораздо крупнее, так что на груди помещалось не более четырех вертикальных рядов. Кроме того, юшманы часто имели спереди медиальные осевой разрез на застежках. Третья группа - «калантари». Отличались пластинами, со всех сторон соединенными кольчужным плетением. Общей конструктивной особенностью всех трех групп является ширина кольчужных соединительных перемычек, составлявшая три ряда колец. При этом использовалось стандартное плетение, когда одно кольцо соединялось с четырьмя.
Особняком стоят так называемые зерцальные доспехи. Они могли иметь кольчато-пластинчатую конструкцию и с равной вероятностью собираться на матерчатой подоснове. Зерцальные доспехи происходят, по всей видимости, от дополнительных нагрудных блях, сопровождавших иногда чешуйчатые и ламеллярные доспехи со второй половины XIII-XV вв. Они имели покрой типа ««пончо» с застежкой на боках или на одном боку. Отличительной чертой является центральная монолитная выпуклая пластина круглой или многогранной формы, прикрывающая корпус в районе диафрагмы. Остальные пластины имели прямоугольную или трапециевидную форму, дополняя центральную бляху. Толщина пластин достигала от 1,0 до 2,5 мм на боевых зерцалах; парадные были, как правило, тоньше. Поверхность пластин нередко покрывалась частыми ребрами жесткости, которые, располагаясь параллельно, образовывали аккуратные конелюры. По краю пластины часто отделывались декоративной матерчатой выпушкой или бахромой. Зерцала были дорогим доспехом. Даже в рядовом исполнении, без украшений, они были доступны лишь немногим. Например, картина «Битва на Орше» изображает в зерцалах только командиров подразделений русской конницы.
Определенное распространение имели матерчатые доспехи, подбитые с изнанки стальными пластинками на манер европейских бригандин. Они выполнялись по азиатской моде, что выражалось в покрое в виде длиннополого кафтана и пластинах с заклепками, расположенными в правом или левом углу сверху, в отличие от пластин европейских бригандин, приклепывавшихся по верхнему или нижнему краю, или же по центру. Подобный доспех получил название «куяк». Боевые наголовья можно сгруппировать в три отдела, по конструктивному признаку: первый - жесткие, второй - полужесткие, третий - гибкие. К первому относятся шеломы, шишаки, шапки железные или «ерихонки». Они закрывали голову монолитной высокой сфероконической или шатровидной тульей со шпилем (шеломы); низкой куполовидной или сферо-конической тульей с «крутыми» боками и без шпиля (шишаки); полусферической или низкой куполовидной тульей со стальным козырьком (часто с носовой стрелкой), подвижными нащечниками и назатыльником (ерихонки, железные шапки). Ко второму отделу относятся почти исключительно «мисюрки». Они закрывали выпуклой монолитной пластиной только темя, остальная часть головы прикрывалось кольчужной сеткой, иногда с включениями стальных пластин наподобие бах терца. В конце XVI в. ограниченно распространились наголовья на манер корацина 2 , набранные из круглых чешуй, приклепанных к кожаной подоснове. Третий отдел формируется «шапками бумажными». Это были стеганые, наподобие тягиляев, наголовья. Термин происходит от хлопчатобумажной ткани, из которой сшивались подобные наголовья или от их ватной набивки. Они отличались достаточной устойчивостью, чтобы иногда их снабжали стальными на носниками, приклепывавшимися к налобной части тульи. Бумажные шапки кроились в виде ерихонок с нащечниками и назатыльниками.
Доспехи могли дополняться наручами (зарукавья, базубанды) и поножами (бутурлыки).
Последние употреблялись крайне редко и только в среде высшей знати. Наручи, напротив, изза отказа от щитов и распространения сабельного боя стали необходимым защитным средством.
Щиты в данный период употреблялись редко. Если же они имели место, то это были азиатские ««калканы», круглые, конические в сечении.

На реконструкции представлены русские конные воины середины XVI в. Реконструкция основана на материалах коллекции (боярском арсенале) Шереметевых.
Первая фигура (передний план) изображена в тяжелом и богато украшенном боярском снаряжении.
Шлем: сфероконический ««шелом» с подвижными наушами.
Доспех: юшман с застежкой на груди.
Наручи: «базубанды», состоящие из нескольких пластин на кольчужных петлях. Поверхность покрыта золотым таушированным орнаментом.
Набедренники: имеют бахтеречную конструкцию и совмещены с пластинчатыми наколенниками.
Щит: ««калкан», проплетенный разноцветным шелковым шнуром.
Наступательное вооружение представлено саблей в ножнах.
Вторая фигура(задний план) представляет простого ратника поместной конницы. Реконструкция основана на находках в Ипатьевском переулке Москвы (хранятся в ГИМе) и иллюстрациях С. Герберштейна.
Шлем: сфероконический «шишак» с бармицей.
Доспех: «тягиляй» - стеганый кафтан с высоким воротником.
Наступательное оружие: лук и стрелы, а также «пальма» - специфическое древковое оружие, представляющее собой ножевидный клинок со втулкой на длинном древке. Вооружение могли дополнять сабля или палаш, топор и нож.
1 Срезни - древнерусский термин, обозначающий широколопастной наконечник стрелы.
2 Корацин - вид доспеха, составленного из металлических чешуй, укрепленных поверх мягкой подоновы.
Вторыми по времени были реформы поместного ополчения. Особое внимание и заботу правительство Ивана Грозного проявило к военному устройству дворян и детей боярских. Дворянское ополчение являлось не только основой вооруженных сил государства, но и, что самое главное, было классовой опорой самодержавия. Улучшить правовое и экономическое положение дворян и детей боярских, упорядочить военную службу их и в связи с этим укрепить состояние и организацию поместного ополчения, а следовательно и всего войска в целом -- вот какие задачи ставил перед собой Иван Грозный, проводя реформы поместного ополчения.
Наиболее ранней из военных реформ дворянства середины XVI в. был приговор о местничестве.
Осенью 1549 г. Иван Грозный начал поход на Казань. В пути царь пригласил к себе духовенство и начал убеждать выступивших в поход князей, бояр, детей боярских и всех служилых людей, что он идет к Казани «на свое дело и на земское», чтобы между служилыми людьми «розни бы и мест... никоторые не было» и на службе все «ходили без мест». В заключение Иван Грозный обещал разрешить все местнические споры после похода.
Тот факт, что в походе пришлось убеждать ратных людей в необходимости единства, для чего специально было приглашено духовенство, показывает, каким разлагающим было влияние местничества на войско. Уговоры не дали положительных результатов, и бояре продолжали вести ожесточенную борьбу за «места». Тогда правительство решило воздействовать на непокорных законодательным путем.
В июле 1550 г. состоялся приговор царя с митрополитом и боярами о местничестве. Приговор состоял из двух основных решений. Первое решение касается местничества вообще. В начале приговора указывается, что в полках князьям, княжатам, дворянам и детям боярским надлежит быть на службе с боярами и воеводами «без мест». В приговоре предлагалось записать в «наряд служебной», что если дворянам и детям боярским случится быть на службе с воеводами не по их «отечеству», то «порухи» отечеству в этом никакой нет.
Указанная часть приговора довольно решительно ставит вопрос о местничестве и на основе только ее можно заключить о желании царя совсем упразднить местнические счеты в войске. Однако дальнейшее содержание приговора в значительной мере снижает первую часть решения. Далее в приговоре читаем: если большим дворянам, состоящим на службе с меньшими воеводами не по своему отечеству, в будущем случится быть самим воеводами вместе с прежними воеводами, то в последнем случае местнические счеты признаются действительными и воеводы должны быть «по своему отечеству».
Итак, отменяя местнические претензии со стороны рядовых воинов к своим воеводам, т. е. к командному составу, приговор оставлял в силе и подтверждал законность этих претензий на места воевод между собой. Таким образом, приговор 1550 г. еще не упразднял полностью местничества в войске, но, несмотря на это, имел большое значение. Отмена местничества между рядовыми воинами и рядовых воинов со своими воеводами способствовала укреплению дисциплины в войске, повышала авторитет воевод, особенно незнатных, и в целом улучшала боеспособность войска.
Вторая часть приговора являлась приспособлением местнических счетов между воеводами к существовавшему делению войска на полки: «в наряд служебной велел написати, где быти на... службе боярам и воеводам по полкам».
Первый («большой») воевода большого полка являлся командующим войском. Первые воеводы передового полка, полков правой и левой руки и сторожевого полка стояли ниже большого воеводы большого полка. Второй воевода большого полка и первый воевода полка правой руки были равны. Воеводы передового и сторожевого полков считались «не менши» воеводы полка правой руки. Воеводы полка левой руки были не ниже первых воевод передового и сторожевого полков, но ниже первого воеводы правой руки; второй воевода полка левой руки стоял ниже второго воеводы полка правой руки.
Значит, первому воеводе большого полка (командующему войском) подчинялись все воеводы других полков. Воеводы всех остальных четырех полков были равны между собой, равны и со вторым воеводой большого полка. Исключение составлял воевода полка левой руки, который стоял ниже воеводы полка правой руки. Это подчинение было оговорено, по-видимому, потому, что фактически полки правой и левой руки (фланги) занимали одинаковое место в войске. Соподчинению первых полковых воевод соответствовало соподчинение вторых и т. д. воевод, а внутри каждого полка первому воеводе подчинялись второй, третий воевода и т. д.
Служебное место полковых воевод, установленное приговором 1550 г., существовало до середины XVII в., т. е. до распада старой полковой организации войска. Приговор определял взаимоотношения полковых воевод между собой, упрощал и улучшал руководство войском и сокращал местнические споры. Несмотря на явные преимущества нового порядка назначения начальствующих лиц в войске, этот порядок плохо усваивался чванливыми боярами. Местничество продолжало существовать, и правительству пришлось неоднократно подтверждать приговор 1550 г.
Следующим по времени мероприятием правительства Ивана Грозного по организации поместного ополчения было образование «избранной тысячи».
Приговором предусматривалось «учинить» в Московском уезде, Дмитрове, Рузе, Звенигороде, в оброчных и других деревнях от Москвы за 60 -- 70 верст «помещиков детей боярских лутчих слуг» 1000 человек. Указанные дети боярские были разделены на три статьи и получили поместья: первая статья по 200, вторая по 150 и третья -- по 100 четей. Всего по приговору было «испомещено» в окрестностях Москвы 1078 человек и роздано 118 200 четвертей земли в поместное владение.
Эта «избранная тысяча» была внесена в особую «Тысячную книгу» и положила начало службе детей боярских по «московскому списку». Для детей боярских служба в тысячниках являлась наследственной. Для многих детей боярских запись в «тысячу» означала крупное служебное повышение, приближение к царскому двору.
В состав «избранной тысячи» вошли многие представители знатнейших княжеских и боярских фамилий. Привлечение на службу княжат имело большое политическое значение. Получая поместья с обязательством быть готовыми «для посылок», для замещения различных должностей на военной и гражданской службе, потомки удельных князей перебирались из своих родовых вотчин в подмосковные поместья, где им велено было постоянно жить. Тем самым княжата стягивались к Москве, становились дворянами-помещиками и лишались связи с теми местами, где они владели наследственными удельными землями в качестве потомков удельных князей.
Деление на три статьи просуществовало недолго. Указом 1587 г. для всех московских дворян был установлен одинаковый размер подмосковных поместных дач в 100 четвертей в поле (150 десятин в трех полях). Этот указ целиком вошел в Уложение 1649 г.
Источники второй половины XVI в. (разрядные книги и летописи) показывают, что обязанные всегда «быть готовыми в посылки» тысячники большую часть времени проводили вне Москвы, преимущественно на ратной службе. В мирное время их рассылали в качестве городовых воевод или осадных голов в пограничные города, назначали для дозора засек и на строительство городов и пограничных укреплений.
Во время военных действий значительное число тысячников становилось полковыми воеводами, головами сотенными, стрелецкими, казачьими, у посохи, обоза, у наряда и т. д. Много тысячников было среди командного состава «государева» полка и в свите царя. Тысячников посылали впереди выступавшего в поход войска в качестве квартирьеров, они же наблюдали за состоянием дорог, мостов и перевозов. Через них в мирное и военное время поддерживались сношения с войском и городовыми воеводами.
Тысячники стояли во главе приказов, были наместниками и волостелями. Назначали тысячников и тиунами, городничими, посылали для описи, межевания и дозора земель и переписи тяглого населения, отправляли послами и гонцами в другие государства и т. д.
Создание «избранной» тысячи явилось началом формирования новой группы городового дворянства, появились выборные дворяне и дети боярские или просто «выбор». Выборные дворяне и дети боярские с 1550 г. получили официальное признание. Из выборного дворянства при царском дворе и сложился особый разряд служилых людей под именем «жильцов».
Тысячники не теряли своих прежних поместий и вотчин и сохраняли связь с уездным дворянством. Подмосковное поместье давалось «жильцу» в качестве подспорья, поскольку он обязан был находиться в Москве, вдали от своих земельных владений. Являясь частью уездного дворянства, выборные дворяне (тысячники) причислялись в XVI в., однако не к провинциальному, а к столичному дворянству. Они вошли в состав государева двора и были внесены в так называемую дворовую тетрадь, составленную, как установило исследование А. А. Зимина, в 1551 г.
Выборные дворяне и дети боярские усилили московское столичное дворянство и являлись кадрами, из которых позднее формировались служилые люди, по терминологии XVII в., «московского списка» или «московского чина».
Образование избранной тысячи имело крупное политическое значение. Потомки родовитой знати были уравнены в служебном положении с помещиками-дворянами и детьми боярскими. Расширилась и укрепилась связь правительства с местными дворянами и детьми боярскими, составлявшими основную массу поместного ополчения. Появились кадры служилых людей, на которых самодержавие могло опереться.
Вместе с «выборными» (московскими) стрельцами тысячники составляли ближайшую вооруженную силу и охрану царя.
Приговор 1550 г. положил начало той реорганизации службы с поместий и вотчин, которая получила свое окончательное установление в «Уложении о службе» 1556 г.
В 1556 г. состоялся приговор об отмене кормлений и о службе, по которому была проведена крупная реформа дворянского ополчения.
В приговоре прежде всего отмечался огромный вред кормлений. Князья, бояре и дети боярские, сидевшие в городах и волостях в качестве наместников и волостей, «многие грады и волости пусты учинили... и много злокозненных дел на них учиниша...»
В связи с этим система кормлений была упразднена, а наместничий «корм» заменен особым государственным денежным сбором -- «кормленым окупом». Окуп поступал в казну и являлся одним из основных источников государственного дохода. Введение окупа внесло крупные изменения в систему государственного аппарата. Были созданы особые государственные финансовые органы -- «четверти» (чети).
Все эти мероприятия имели важные политические и экономические последствия. Отмена кормлений я ликвидация наместничьего управления привели к тому, что огромные средства, собираемые боярами с населения в виде наместничьих кормов, стали поступать в государственную казну. Тем самым экономически и политически бояре стали слабее, а кормленый окуп превратился в источник финансирования дворянства. Денежный доход в виде окупа позволил правительству назначить дворянам и детям боярским за службу постоянное денежное жалованье. Отмена кормлений была проведена в интересах дворянства.
Приговор 1556 г. решил также вопрос о службе дворян и детей боярских. Эта часть приговора получила название «Уложение о службе».
Центральное место в приговоре занимает решение об установлении службы с земли. С вотчин и поместий владельцы должны были выполнять «уложенную службу». Со ста четвертей (150 десятин в трех полях) «добрые угожие земли» выставлялся один человек на коне и в доспехе полном, а в дальний поход -- с двумя конями. За службу помещикам и вотчинникам устанавливалось (кроме владения землей) вознаграждение в виде постоянного денежного жалованья. Жалованье давалось и на людей, которых приводили с собой помещики и вотчинники. Тем дворянам и детям боярским, которые приводили с собой людей сверх установленного числа по приговору, жалованье увеличивалось.
Если помещик или вотчинник не нес службы, он платил деньги за то число людей, которое обязан был выставить по размеру земельных владений.
Уложением 1556 г. устанавливалась норма военной службы с земли; поместье в 100 четвертей давало одного конного вооруженного воина. Уложение уравняло службу с поместий и вотчин, служба с последних стала такой же обязательной, как и с поместных земель. Это означало, что государственную службу должны были нести и все те вотчинники, которые до этого служили отдельным феодалам. Уложение создавало заинтересованность помещиков и вотчинников в службе и вело к росту численности дворянского ополчения путем привлечения к службе новых землевладельцев. В общем Уложение улучшало комплектование войска.
Кроме указанных, чисто военных реформ дворянского ополчения, заботы правительства об улучшении правового и экономического положения дворян и детей боярских выразились в целом ряде других законодательных актов.
Помещики получили право судиться по своим делам, кроме «душегубства, татьбы и разбоя», непосредственно у самого царя; в руках помещика сосредоточивалась судебная власть над крестьянами, живущими на его землях, и, наконец, запрещалось обращать детей боярских (кроме непригодных к службе) в холопы, что должно было повести к сохранению кадров ратных людей.
В дополнение к «Уложению о службе» 1556 г. правительство приняло ряд мер по облегчению и ликвидации задолженности помещиков.
Наконец, крупная реформа местного государственного управления, проведенная в середине 50-х годов, передала власть на местах из рук княжеско-боярских кругов (наместников) в ведение местных помещиков, находившихся под контролем центрального государственного аппарата.
В целом все реформы середины XVI в. имели ярко выраженный дворянский характер и отражали рост дворянства как надежной политической, экономической и военной силы централизованного государства.
Дети боярские, как класс, сформировавшиеся в начале XV века, изначально были не очень крупными вотчинниками. Они были «закреплены» за тем или иным городом и стали привлекаться князьями для военной службы. Позднее дети боярские разделились на две категории. Дворовые дети боярские - изначально служили в составе Государева (великокняжеского) двора или перешли в него из дворов удельных князей. Городовые дети боярские, изначально служившие удельным князьям, закреплялись за определённым городом. Чёткая разница между этими категориями оформилась к 30-40 годам XVI века. Дворовые дети боярские получали более высокое жалование. Во второй половине XVI века они занимали промежуточное положение между городовыми и выборными детьми боярскими. Городовые дети боярские составляли большинство. В начале XVI века города относились к московскому и новгородскому разрядам, а во второй половине из московского выделились такие группы городов, как смоленские, северские, тульские и рязанские .
Дворяне сформировались из слуг княжеского двора и поначалу играли роль ближайших военных слуг великого князя. Как и дети боярские, за службу они получали земельные участки. В первой половине XVI века дворяне вместе с дворовыми детьми боярскими составили особый Государев полк. Поначалу дворяне в документах стояли ниже детей боярских, как особая группа, они выделяются лишь в середине XVI века. Существовали также городовые дворяне. Они были сформированы из послужильцев удельных князей и бояр и снабжены поместьями вдали от Москвы.
Реформы Ивана Грозного
В 1552 году полки поместной конницы получили сотенную структуру. Командование сотнями осуществляли сотенные головы.
В годы правления Ивана Грозного появились выборные дворяне и дети боярские, которые несли как дворовую, так и городовую службу. Выборные дети боярские пополнялись из числ дворовых, а дворовые, в свою очередь, из числа городовых.
В 1564-1567 годах Иваном Грозным была введена опричнина. Служилые люди были разделены на опричных и земских, таким же образом были разделены и уезды. Опричнина реализовывала идею «Избранной тысячи» . В 1584 году опричный двор был ликвидирован, что привело к изменению структуры Государева двора.
К московским служилым людям относились жильцы , дворяне московские , стряпчие и стольники . Их общее число в XVI веке составляло 1-1,5 тысячи человек , к концу XVII возросло до 6 тысяч.
Наиболее высшие командные должности занимали думные чины - бояре , окольничие и думные дворяне . Их общая численность в целом была не более 50 человек.
Смутное время
Смутное время привело к кризису поместной системы. Значительная часть помещиков стала пустопоместной и не могла получать обеспечение за счёт крестьян. В связи с этим правительство принимало меры по восстановлению поместной системы - производило выплаты денежного жалования, вводило льготы. Ко второй половине 1630-х годов боеспособность поместного войска удалось восстановить.
Реформы Романовых
Вместе с тем, в ходе реформ армии возникла двойственность в её структуре, поскольку изначально основой вооружённых сил Царства Русского являлось именно поместное войско, а остальные формирования были зависимы по отношению к нему. Теперь же они получали независимость и автономность в составе вооружённых сил, а конница сотенной службы становилась с ними в один ряд. В ходе военно-окружной реформы 1680 года были переформированы разряды (военные округа) и окончательно изменена структура русских вооружённых сил - в соответствии с этими разрядами формировались разрядные полки, в составе которых теперь выступала поместная конница.
В 1681 году была начата реформа организации московских служилых людей. Их было решено оставить в полковой службе, но переформировать из сотен в роты (по 60 человек) во главе с ротмистрами; и в полки (по 6 рот в полку). Для этого в 1682 году пришлось отменить местничество .
Ликвидация
Поместное войско было упразднено при Петре I . На начальном этапе Великой Северной войны дворянская конница, под руководством Б. П. Шереметева нанесла ряд поражений шведам, вместе с тем, её бегство было одной из причин поражения в битве при Нарве в 1700 году . В начале XVIII века старая дворянская конница вместе с казаками ещё фигурировала среди полков конной службы и принимала участие в различных боевых действиях. Известно 9 таких полков. В частности, ертаульный полк Ивана Назимова был сформирован в 1701 году из московских чинов и служилых людей полковой и сотенной службы Новгородского разряда, потом преобразован в рейтарский полк, в 1705 году расформирован. Полк Степана Петровича Бахметьева был сформирован в 1701 из служилых людей полковой и сотенной службы, а также стрельцов и казаков низовых городов, в 1705 расформирован. Полки Льва Федоровича Аристова и Сидора Федоровича Аристова были сформированы в 1701 году из служилых людей полковой и сотенной службы Казанского разряда, расформированы к 1712 году. Полк Богдана Семеновича Корсака, сформированный из смоленской шляхты, сохранял организацию полков сотенной службы и милиционное устройство в течение первой четверти XVIII века. В результате преобразований армии значительная часть аристократов была переведена в драгунские и гвардейские полки, многие из них составили офицерство .
Структура
Во второй половине XVI века сформировалась следующая структура служилых людей по отечеству, составлявших войско:
- Думные чины
- Окольничие
- Московские чины
- Стольники
- Стряпчие
- Городовые чины
Окончательно эта структура сформировалась, вероятно, после отмены опричнины. Стольниками могли стать, как правило, наиболее знатные аристократы. С этого чина начинали службу дети бояр, окольничих, московских дворян, или же переходили в него после пребывания в чине стряпчего. Стольники, по окончании службы, переходили в думные чины или в чин московских дворян. В чине стряпчего либо начинали службу, либо переходили в него после пребывания в чине жильца. Жильцы, как правило были детьми выборных дворян, реже - московских дворян, дьяков, стрелецких голов, иногда и видных дворцовых деятелей, а также, возможно, лучших дворовых детей боярских. По окончании службы жильцы, как правило, переходили в «выбор из городов», но иногда могли стать стряпчими или московскими дворянами. В чине московских дворян, как правило, служили представители княжеско-боярской знати, а в некоторых случаях до него дослуживались выборные дворяне; и служили всю жизнь, кроме тех случаев, когда могли перейти в думные чины или, из-за опалы, понизиться до «выбора из городов». В чине выборных дворян могли начинать службу дети выборных и московских дворян. До «выбора» нередко, после длительной службы, могли дослужиться дворовые дети боярские, а в исключительных случаях - и городовые. В «выбор» переводились отслужившие дворцовую службу жильцы, пониженные в результате опалы дворяне московские, дьяки, стряпчие. Выборные дворяне, чаще всего, служили в этом чине всю службу, однако иногда могли перейти в московские чины.
Из представителей думных чинов назначались большие полковые и просто полковые воеводы, также они посылались в качестве воевод в приграничные города. Наиболее заслуженные бояре могли назначаться командующими всем войском. Часть московских служилых людей в военное время находилась в составе Государева полка, а другие посылались в другие полки, где они, вместе с выборными дворянами, занимали должности воевод, их товарищей, голов. При распределении должностей учитывалось местническое старшинство. Характерно также то, что основными обязанностями думных и московских чинов считалась служба при дворе, а военные назначения считались дополнительными «посылками». Местничество играло роль и среди городовых служилых людей - это зависело от разряда (за Замосковными городами шли города Новгородского разряда, а также города южных украин) и очерёдности внутри разряда.
Численность
Точную численность поместного войска в XVI веке установить невозможно. А. Н. Лобин оценивает общую численность русского войска в первой трети XVI века до 40 000 человек, с учётом того, что её основную часть составляла поместная конница. К середине века она возрастает, в последней четверти снижается. В Полоцком походе 1563 года, согласно его оценке, приняло участие 18 000 помещиков, а вместе с боевыми холопами - до 30 000 человек. В. В. Пенской считает эти оценки заниженными и ограничивает верхний предел численности поместного войска в первой половине XVI века в 40 000 человек помещиков и боевых холопов, или 60 000 с учётом других слуг . О. А. Курбатов, указывая на достоинства и недостатки работы А. Н. Лобина, отмечает, что подобное вычисление верхней оценки численности некорректно по причине слишком большой погрешности . В конце XVI века, по оценке С. М. Середонина, численность дворян и детей боярских не превышала 25 000 человек. Общая численность, вместе с холопами, по оценке А. В. Чернова достигала 50 000 человек.
В XVII веке численность войска может быть точно установлена благодаря сохранившимся «Сметам». В 1632 было 26 185 дворян и детей боярских. По «Смете всяких служилых людей» 1650-1651 годов в Московском государстве было 37 763 дворян и детей боярских, а оценочная численность их людей - 40-50 тысяч. К этому времени поместное войско вытеснялось войсками нового строя , значительная часть поместных была переведена в рейтарский строй, и к 1663 году их численность уменьшилась до 21 850 человек, а в 1680 составляла 16 097 человек сотенной службы (из которых 6385 - московских чинов) и 11 830 их людей.
Мобилизация
В мирное время помещики находились в своих поместьях, а в случае войны должны были собираться, на что уходило много времени. Иногда на полную подготовку ополчения к военным действиям уходило более месяца. Тем не менее, по словам Перкамоты, в конце XV века на сбор войска уходило не более 15 дней. Из Разрядного приказа в города воеводам и приказным дьякам рассылались царские грамоты, в которых указывалось помещикам готовится к походу. Из городов они со сборщиками, присылаемыми из Москвы, выступали к месту сбора войск. Каждому сборщику в Разрядном приказе выдавался список служилых людей, которые должны были участвовать в походе. Они сообщали сборщику число своих холопов. По Уложению о службе 1555-1556 гг. помещик со 100 четвертей земли должен был приводить одного вооружённого человека, включая себя, а по Соборному приговору 1604 - с 200 четвертей. Вместе с боевыми холопами можно было брать с собой кошевых, обозных людей. На службу помещики и их люди являлись на конях , нередко одвуконь. В зависимости от обеспеченности помещиков, они делились на различные статьи, от принадлежности к которым зависели предъявляемые к ним требования и характер службы. По мобилизации служилые люди распределялись по воеводским полкам, а затем «расписывались в сотни». При росписи или позднее формировались отборные подразделения.
В поход отправлялись со своим продовольствием. О запасах в походе писал Герберштейн: «Пожалуй, кое-кому покажется удивительным, что они содержат себя и своих людей на столь скудное жалованье и притом, как я сказал выше, столь долгое время. Поэтому я вкратце расскажу об их бережливости и воздержанности. Тот, у кого есть шесть лошадей, а иногда и больше, пользуется в качестве подъемной или вьючной только одной из них, на которой везет необходимое для жизни. Это прежде всего толченое просо в мешке длиной в две-три пяди, потом восемь-десять фунтов соленой свинины; есть у него в мешке и соль, притом, если он богат, смешанная с перцем. Кроме того, каждый носит с собой сзади на поясе топор, огниво , котелки или медный чан, и если он случайно попадет туда, где не найдется ни плодов, ни чесноку, ни луку, ни дичи, то разводит огонь, наполняет чан водой, бросает в него полную ложку проса, добавляет соли и варит; довольствуясь такой пищей, живут и господин, и рабы. Впрочем, если господин слишком уж проголодается, то истребляет все это сам, так что рабы имеют, таким образом, иногда отличный случай попоститься целых два или три дня. Если же господин пожелает роскошного пира, то он прибавляет маленький кусочек свинины. Я говорю это не о знати, а о людях среднего достатка. Вожди войска и другие военные начальники время от времени приглашают к себе других, что победнее, и, хорошо пообедав, эти последние воздерживаются потом от пищи иногда два-три дня. Если же у них есть плоды, чеснок или лук, то они легко обходятся без всего остального» . Непосредственно же во время походов организовывались экспедиции для добычи продовольствия на вражеской территории - «загоны». Кроме этого во время «загонов» иногда захватывали пленников с целью их отправки в поместья.
Служба
Тактические формирования
В первой половине XVI века походная рать могла включать множество разных воевод, под командованием каждого из которых находилось от нескольких десятков до нескольких сотен бойцов. При Иване Грозном в 1552 году была введена сотенная структура, что позволило упорядочить систему боевого управления.
Основной тактической единицей с середины XVI века была сотня. Сотенные головы представляли собой младший командный состав. Они назначались воеводой полка из выборных дворян, а со Смутного времени - и просто из опытных детей боярских. Численность сотни составляла обычно 50-100 человек, изредка - больше.
Для выполнения конкретных задач могла быть сформирована «лёгкая рать». Она сводилась из сотен, возможно - отборных, которые выделялись по 1-2 из каждого полка всей рати. Соединение в 1000-1500 детей боярских в первой половине XVI века, как правило, делилось на 5 полков, в каждом из которых было по 2 воеводы. С 1553 года оно стало делиться на 3 полка - Большой, Передовой и Сторожевой, также по 2 воеводы. В каждом воеводском полку было от 200 до 500 воинов.
Вся рать в походах первоначально делилась на Большой , Передовой и Сторожевой полки , к которым могли добавляться полки Правой и Левой руки, а в случае Государева похода - ещё и Государев полк, Ертаул и Большой Наряд (осадная артиллерия). В каждом из них выделялось несколько (2-3) воеводских полка. Если поначалу названия этих полков соответствовали их позиции на поле боя, то в течение XVI века от них стала зависеть лишь их численность и местническое старшинство командующих ими воевод; вместе эти полки крайне редко собирались в общий боевой порядок, поскольку проведение сражений с участием значительного числа людей не соответствовало московской стратегии. Например, в 1572 году при нападении татар полки русской рати, укрывшись за гуляй-городом, по очереди в порядке старшинства совершали оттуда вылазки. Численность полков была различна, по имеющимся данным Большой полк составлял почти 1/3, Правой руки - немногим меньше 1/4, Передовой - около 1/5, Сторожевой - около 1/6, Левой руки - около 1/8 от общей численности. Общая численность рати в некоторых походах известна по разрядным росписям. В частности, в походе И. П. Шуйского на Юрьев в 1558 году она составляла 47 сотен, береговая рать М. И. Воротынского в 1572 году составляла 10 249 человек, а рать Ф. И. Мстиславского в походе против Лжедмитрия в 1604 году - 13 121 человек.
Виды службы
Во второй половине XVI века служба разделялась на городовую (осадную) и полковую. Полковая, в свою очередь, включала дальнюю и ближнюю службы.
Осадная служба неслась «с земли» малопоместными людьми. На неё также переводились те, кто уже не мог в силу старости, болезни, ранений нести полковую службу; в этом случае часть поместья у них отбиралась. Денежное жалование числившимся в осадной службе не полагалось. Малопоместные дворяне и дети боярские за исправную службу могли быть переведены в полковую службу, наделены денежным и дополнительным поместным окладом. В некоторых случаях ветераны могли быть полностью отстранены от службы.
Дальняя, походная служба подразумевала непосредственное участие в походах. Ближняя (украинная , береговая) сводилась к охране границ. Малообеспеченные дворяне и дети боярские могли привлекаться к засечной службе. Среднепоместные, «которые б люди были конны, и собою молоды, и резвы, и просужи», несли станичную службу; наиболее обеспеченные назначались командующими и несли основную ответственность. Засечная служба состояла в охране засечных черт . Станичная служба заключалась в патрулировании конными отрядами пограничной территории, которые в случае обнаружения вражеских отрядов должны были известить воеводу. Отряды несли службу посменно. «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе» 1571 года за самовольное оставление поста предусматривал смертную казнь.
Снабжение
Во второй половине XV века формируемое войско преимущественно снабжалось поместьями в недавно присоединённых Новгородских землях , а также в других присоединённых княжествах. Помещики были снабжены землями, конфискованными у опальных удельных князей и бояр, а частью и у свободных крестьянских общин. Дворовые дети боярские и великокняжеские дворяне испомещивались вблизи Москвы. Кроме того, в конце XV века были составлены Писцовые книги , закрепившие часть крестьян за помещиками; а также введён Юрьев день , ограничивающий право перехода крестьян от одного помещика к другому. Позднее был организован Поместный приказ , отвечавший за распределение поместий.
С 1556 года была организована система смотров, на которых, помимо всего прочего, происходила запись на службу годных к ней по возрасту (с 15 лет) детей помещиков - новиков . Для этого из Москвы в города приезжали думные люди с дьяками (в отдельных случаях их роль выполняли местные воеводы), которые организовывали выборы окладчиков из местных помещиков. Эти окладчики помогали распределить новиков по статьям, зависящим от происхождения и имущественного положения. В результате новиков зачисляли на службу, назначали земельное и денежное жалование и записывали в верстальные десятни. Жалование новиков зависело от статьи и во второй половине XVI века колебалось, в среднем, от 100 до 300 четвертей и от 4 до 7 рублей. Люди из низших сословий к службе в поместном войске не допускались, однако на южных границах, а позднее - и в Сибирских землях иногда приходилось делать исключения. С 1649 года порядок вёрстки изменился. Согласно Уложению дети теперь считались годными к службе с 18 лет и записывались в городовые дети боярские, а не в чин отца. Кроме того, относительно небогатых могли записать в новый строй. В некоторых случаях также разрешалось выставлять даточных людей. Оклады новиков во второй половине XVII века колебались от 40 до 350 четвертей и от 3 до 12 рублей в год.
О смотрах шведский дипломат Петрей сообщает следующее: «Смотр бывает у них не так, как у нас и у других народов когда они делают смотр, все полковники сходятся на один двор, садятся в избе у окна либо в палатке и подзывают к себе полки один за другим, возле них стоит писарь, вызывающий каждого поименно по списку у него в руках, где все они записаны, каждый должен выходить и представляться осматривающим боярам. Если же нет кого налицо, писарь записывает тщательно его имя до дальнейшего распоряжения они не спрашивают, есть ли с ним служители, лошади, оружие и вооружение, спрашивают только его самого.» .
Сведения о служилых людях записывались в разборные и раздаточные десятни . К этим сведениям, определяемых на смотрах, относилось численность боевых холопов помещика, вооружение, конность, и оклады. В зависимости от этого выплачивались деньги. Десятни со смотров отправлялись в Разрядный приказ , а списки с них - в Поместный. Разрядный приказ в десятнях также фиксировал сведения об участии воинов в боевых действиях, изменения в жаловании, отмечал пленение и гибель.
Средний оклад во второй половине XVI-XVII веке колебался от 20 до 700 четвертей земли и от 4 до 14 рублей в год. Поместный оклад городовых детей боярских составлял от 20 до 500 четвертей, дворовых - от 350 до 500, выборных - от 350 до 700. Жалование московских чинов, например, московских дворян, составляло до 500-1000 четв. и 20-100 рублей оклада. Жалование думных чинов: бояре получали от 1000 до 2000 четв. и от 500 до 1200 руб., окольничие - 1000-2000 четв. и 200-400 руб., думные дворяне - 800-1200 четв. и 100-200 рублей. Поместья за особые заслуги, например - за осадное сиденье, могли выдать в вотчину. Среди московских служилых людей число вотчинников было довольно велико.
Со второй половины 60-х годов XVI века нехватка годных для испомещений земель привела к перераспределениям поместий. Излишки поместий и наделы помещиков, уклонявшихся от службы, стали конфисковать, и отдавать другим. Это привело к тому, что поместья иногда состояли из нескольких частей. В связи с бегствами крестьян и увеличением числа пустошей, в некоторых случаях лишь одна часть поместного оклада составляла полноценная земля с крестьянскими дворами, а другая выдавалась в виде пустошей. Поэтому помещики получили право сами искать населённые земли. В XVII веке из-за нехватки годных земель реальное поместье многих городовых людей было меньше оклада, что особенно проявлялось на южных рубежах. Например, по разбору 1675 и смотру 1677 у 1078 дворян и детей боярских южных городов было 849 крестьянских и бобыльских дворов. Средние поместья там составляли 10-50 четвертей.
Боеспособность
Помимо долгого сбора, поместное войско имело ряд других недостатков. Одним из них было отсутствие систематического военного обучения, что отрицательно сказывалось на его боеспособности. Вооружение каждого человека оставалось на его усмотрение, хотя правительство давало рекомендации на этот счёт. В мирное время помещики занимались сельским хозяйством и участвовали в регулярных смотрах, на которых проверялось их вооружение и боеготовность. Другим важным недостатком была неявка на службу и бегство с неё - «нетство», которое было связано с разорением поместий или с нежеланием людей участвовать в определённой войне (например из-за несогласия с политикой правительства). Особых размахов оно достигло в Смутное время . Так, из Коломны в 1625 году из 70 человек прибыло только 54. За это им снижали поместный и денежный оклад (за исключением уважительных причин неявки - болезни и других), а в некоторых случаях поместье полностью конфисковывали. В случае неудачного оборота боя в бегство иногда обращались те сотни, которые не принимали никакого участия в битве, как произошло, например, под Валками в 1657 или при Нарве в 1700. С этим свойством поместной конницы было связано большинство его поражений. Однако, в целом, несмотря на недостатки, поместное войско проявляло высокий уровень боеспособности. Основные боевые приёмы люди усваивали ещё с детства, поскольку были заинтересованы в службе и готовились к ней; а их умение подкреплялось непосредственным боевым опытом. Отдельные поражения, как правило, были связаны не со слабостью войска, а, кроме случаев отступления без боя, с ошибками воевод (как в Оршанской битве 1514 или в битве на Оке 1521), внезапностью вражеского нападения (Битва на реке Уле (1564)), подавляющим численным превосходством противника, нежелание людей сражаться (как в Клушинской битве 1610 , в которой войско, нежелающее сражаться за царя Василия IV , разошлось, не принимая участия в битве). А отвага воинов в битвах поощрялась. Например, рязанскому сотенному голове Михаилу Иванову, который в бою 1633 года «побил и переранил» многих татар, а двоих взял в плен и «многой полон отгромил», причём из лука застрелили его коня - было добавлено 50 четвертей к бывшим 150 и 2 рубля оклада к бывшим 6, 5 рублей за командование сотней, «да язычного два рубли, да сукно доброе». Информация об участии ратных людей в каждом бою заносилась в послужные списки .
Тактика
Тактика поместной конницы была основана на скорости и сформировалась под азиатским влиянием в середине XV века. «Всё, что они делают, нападают ли на врага, преследуют ли его или бегут от него, они совершают внезапно и быстро. При первом столкновении они нападают на врага весьма храбро, но долго не выдерживают, как бы придерживаясь правила: Бегите или побежим мы.» - писал о русской коннице Герберштейн . Первоначально её основной целью являлась защита православного населения от набегов, главным образом, тюркских народов. В связи с этим несение береговой службы стало важнейшей задачей ратных людей и своеобразной школой их боевой подготовки. В связи с этим основным оружием конницы был лук, а оружие ближнего боя - копья и сабли - играли второстепенную роль. Русская стратегия отличалась стремлением избежать крупных столкновений, которые могли бы привести к потерям; отдавалось предпочтение различным диверсиям из укреплённых позиций. Для противодействия татарским набегам требовалась высокая степень взаимодействия и скоординированности действий разведки и боевых отрядов. В XVI веке основными формами боя были: лучный бой, «травля», «напуск» и «съёмный бой» или «сеча великая». В «травле» принимали участие только передовые отряды. Во время неё начинался лучный бой, нередко в форме степной «карусели» или «хоровода»: отряды русской конницы, несясь мимо противника, проводили его массовый обстрел. В сражении с тюркскими народами взаимная перестрелка могла длиться «многое время». За лучным боем обычно следовал «напуск» - атака с использованием контактного холодного оружия; причём начало атаки могло сопровождаться лучной стрельбой. В ходе прямых столкновений производились многократные «напуски» отрядов - они атаковали, в случае стойкости противника - отступали, чтобы завлечь его на преследование или дать место для «напуска» другим отрядам. В XVII веке способы боя поместного войска изменились под западным влиянием. В ходе Смутного времени оно перевооружилось «езжими пищалями», а после Смоленской войны 30-х годов - карабинами. В связи с этим стал применяться «бой стрелбою» из огнестрельного оружия, хотя лучный бой также сохранился. С 50-60-х годов атаке конницы стал предшествовать залп из карабинов.
Важное значение играли ертаулы (называемые также ертоулы , яртаулы ), впервые упомянутые в середине XVI века. Они формировались либо из нескольких конных сотен, либо из лучших бойцов, отобранных из разных сотен, и иногда - воеводской свиты. Ертаулы шли впереди всей рати и выполняли разведывательные функции, обычно первыми вступали в бой, на них возлагались самые ответственные задачи, поэтому требовалась скорость реакции и высокая боеспособность. Иногда ертаул совершал ложное бегство, приводя преследующего противника в засаду. В случае победы, как правило, именно ертаул совершал преследование разбитого противника. Однако, даже если в преследование уходила основная часть войска, то воеводы и головы старались сохранять управление сотнями под своим контролем, поскольку могла возникнуть необходимость провести новый бой или взять вражеские укрепления. Преследования, как правило, велись с большой осмотрительностью, поскольку отступающий противник мог привести в засаду, как произошло в Конотопской битве .
Во второй половине XVI века сложилась практика в случае поражения собираться в полевых укреплениях, однако основная часть конницы рассеивалась по местности. Со Смутного времени кто не вернулся в укрепления, стали наказываться. Возможно, к концу Смутного времени относится появление «отводных отрядов» в составе одной или нескольких сотен (хотя сам термин «отвод» известен с XVI века). В задачи этих отрядов входило, в случае поражения, произвести атаку по вражеским частям, которая позволяла сорвать преследование нашего войска и обеспечить организованное отступление. В связи с важной роли отвода, он формировался из элиты поместного войска, а с 60-х годов XVII века - иногда из конницы нового строя. Вместе с тем, с 50-х годов потребность в отводе падает - его роль стала выполнять пехота. Вместе с тем, с уменьшением роли поместного войска и в связи его малой способности к линейному бою, оно стало выполнять задачи ертаула и отвода во второй линии основного построения. В качестве отвода поместная конница выступила, например, в битве на р. Басе 1660, контратакой спася преследуемых рейтар.
В 1570-1630-х годах впереди войска иногда выдвигались конные отряды служилых иноземцев.
Замысел боя, как правило, разрабатывался воеводами и головами на совете, где обсуждался боевой порядок, ход битвы и условные сигналы. Для этого использовались данные разведки - «подъездов» и «проезжих станиц», выделявшихся, как правило, из ертаула или подъезжей сотни. Исходя из предполагаемых замыслов противника, воеводы либо атаковали, либо переходили к обороне. При атаке старались нападать неожиданно, «безвестно». В 1655 году под Витебском такая атака, организованная Матвеем Шереметьевым , позволила разбить численно превосходящий литовский отряд. При татарских набегах русская конница старалась атаковать, когда они рассеивались по территории с целью поиска добычи и пленников. Если воеводы решали атаковать противника, находящегося на хорошей позиции, то передовые отряды завязывали бой до тех пор, пока не подойдут основные силы для проведения лобовой атаки; или же пока не будут найдены пути для атаки с тыла или фланга. Однако атаки с флангов производились, преимущественно, в оборонительных боях. Роль базы во время полевых боёв нередко выполняли гуляй-города, прикрываемые пехотой и артиллерией. На них с помощью ложного бегства иногда наводились преследующие вражеские войска, которые попадали в огненную засаду.
Система управления войсками во многом сформировалась под влиянием государств Тимуридов . Воеводские приказы передавали особые есаулы из молодых детей боярских. Знамёна служили для обозначения местоположения воеводы и воеводской ставки, и конных сотен. Сотенные знамёна, по крайней мере, в XVII веке на каждый поход высылались воеводским полкам из столицы и распределялись по сотням, а по роспуске войска отправлялись обратно; поэтому принадлежность знамени была неизвестна противнику. Знаменосцы следовали за командиром полка или сотни, а за знаменем следовал весь отряд. Знамёнами или бунчуками подавались также условные сигналы. Звуковые сигналы, называвшиеся «ясаки», служили для обозначения «напуска», а также сбора войска по окончании битвы и для других целей. Музыкальные инструменты состояли при воеводских и царской станах, к ним относились: тулумбас или бубен, «большой набат» (барабаны); накры, литавры ; сурны . Существовали также «ясачные кличи». Эта система управления во второй половине XVII века под западным влиянием постепенно выходит из употребления.
Вооружение
Снаряжение русского воина середины XVI века. Гравюра из базельского издания Герберштейна, 1551.
Помещики вооружались сами и вооружали своих людей за свой счёт. Поэтому комплекс доспехов и оружия поместного войска был очень разнообразен, и, в целом, в XVI веке соответствовал западноазиатскому комплексу, хотя имел некоторые отличия, а в XVII заметно изменился под западным влиянием. Правительство иногда давало предписания на этот счёт; а также проверяло вооружённость на смотрах.
Холодное оружие
Основным клинковым оружием была сабля . Преимущественно они были отечественные, но применялись и импортные. Особенно ценились западноазиатские булатные и дамасские сабли. По типу клинка они подразделяются на массивные киличи , с яркой елманью, и более узкие сабли без елмани, к которым относятся как шамширы , так, вероятно, и местные восточноевропейские типы. В Смутное время получили распространение польско-венгерские сабли. Изредка использовались кончары . В XVII века распространяются, хоть и не широко, палаши . Дополнительным оружием были ножи и кинжалы , в частности, специализированным был подсаадачный нож .
Дворянская конница вплоть до Смутного времени широко вооружалась топориками - к ним относились топорики-чеканы , топоры-булавы и разнообразные лёгкие «топорки». Булавы перестают быть распространёнными к середине XV века, и к тому времени известны лишь брусы . В XVII веке некоторое распространение получают связанные с турецким влиянием грушевидные булавы, однако, как и буздыханы , они имели преимущественно церемониальное значение. На протяжении всего периода воины вооружались перначами и шестопёрами , однако назвать их широко распространённым оружием сложно. Часто использовались кистени . Применялись чеканы и клевцы , получившие распространение под польским и венгерским влиянием в XVI веке (возможно - во второй половине), однако, не очень широкое.
Лук со стрелами
Основным оружием поместной конницы с конца XV до начала XVII веков был лук со стрелами , который носился в комплекте - саадаке . Это были сложносоставные луки с сильно профилированными рогами и чёткой центральной рукоятью. Для изготовления луков использовались ольха , берёза , дуб, можжевельник, осина; они снабжались костяными накладками. На изготовлении луков специализировались мастера-лучники, саадаков - саадачники, стрел - стрельники. Длина стрел составляла от 75 до 105 см, толщина древок - 7-10 мм. Наконечники стрел были бронебойные (13,6 % находок, чаще встречаются на северо-западе и теряют широкое распространение в середине XV века), рассекающие (8,4 % находок, чаще в области «немецкой украины») и универсальные (78 %, причём, если в XIV-XV веках они составляли 50 %, то в XVI-XVII - до 85 %).
Огнестрельное оружие
Защитное вооружение

Примечания
- Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII-XV вв. - Л. : Наука, 1976.
- Чернов А. В. Вооруженные силы Русского Государства в XV-XVII вв. (С образования централизованного государства до реформ при Петре I) . - М .: Воениздат, 1954.
Введение
Глава I. Вооруженные силы Московского государства в первой половине XVII века
§ I. Боярское и дворянское войско
§ II. Стрелецкое войско
§ III. Казачье войско
Глава II. «Полки нового строя» Алексея Михайловича
§ I. Набор в «Полки нового строя»
Заключение
Список использованной литературы
Введение
В XVII веке Московское государство практически не отставало и своевременно откликалось на все последние новинки военных технологий. Стремительное развитие военного дела было обусловлено широким распространением пороха и огнестрельного оружия.
Московское государство, находившееся на стыке Европы и Азии, испытывало влияние обеих военных школ. Поскольку в XV – XVI вв. для него основными противниками были кочевники – на первых порах был взят опыт восточной военной традиции. Эта традиция была подвергнута значительной переработке, и главная идея ее было доминирование в структуре вооруженных сил легкой иррегулярной поместной конницы, дополняемой отрядами стрельцов и казаков, находившихся частично на самообеспечении, частично на государственном содержании.
Начало 30-х гг. XVII в., когда правительство Михаила Федоровича и патриарха Филарета начало готовиться к войне за возвращение Смоленска, стало точкой отсчета в истории новой русской армии. Прежняя структура вооруженных сил не удовлетворяла потребности нового правительства. И при активной помощи иностранных военных специалистов в Московском государстве началось формирование обученных и вооруженных по последнему европейскому образцу солдатских, рейтарских и иных полков «нового строя». С этого момента генеральной линией русского военного строительства в оставшееся время до конца столетия стало неуклонное увеличение доли регулярного компонента и снижения значения иррегулярного.
Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время история Вооруженных сил России, в особенности их реформирование, вызывают интерес в обществе. Особое внимание привлекает к себе период реформ XVII века. Круг проблем, с которым правительство России столкнулось тогда в военной сфере, перекликается с современными. Это необходимость оптимальной мобилизационной системы для борьбы с могучими западными соседями при ограниченных финансово-экономических возможностях и людских ресурсах, также это стремление освоить эффективные стороны военной организации, тактики и вооружения.
Работа актуальна также тем, что не замыкается только на вопросах регулярности или нерегулярности войска, а показывает его боеспособность в ходе военных сражений.
Хронологические рамки темы охватывают период с начала XVII века по 1676 год – окончание правления царя Алексея Михайловича.
Самостоятельное изучение вооруженных сил Русского государства началось в конце XIX – начале XX века, когда в общеисторической литературе накопился некоторый запас фактических сведений. Наиболее крупным сочинением того времени был труд Висковатова А.В. «Историческое описание одежды и вооружения российских войск» , выпущенная в 1902 году. В своей работе автор представляет уникальное единственное в своем роде столь масштабное исследование в области истории военной амуниции. Висковатов А.В. опирается на широкий круг письменных и вещественных источников. Среди них: царские грамоты (“именные” и “боярские приговоры”), наказы и наказные памяти стрелецким головам, челобитные, отписки, а также записки русских и иностранных путешественников.
Следующим значимым вкладом в науку был коллективный труд группы генералов и офицеров царской армии и флота, изданный в 1911 году и получивший название «История русской армии и флота» . «История» показывает развитие русского военного дела и рассматривает выдающиеся боевые эпизоды. Авторы книги Гришинский А.С., Никольский В.П., Кладо Н.Л. подробно описывают организацию, быт, вооружение и характеризуют боевую подготовку войск.
В 1938 году выходит монография Богоявленского С. К. «Вооружение русских войск в XVI-XVII вв.» . Историк, опираясь на большое количество архивных данных, подробно описывает вооружение и снаряжение русских войск. Достижением автора является то, что после революции это была единственная новая работа, ставшая впоследствии классикой.
С началом Великой Отечественной войны выпуск научных трудов сокращается. В 1948 году на свет выходит статья Денисовой М.М. «Поместная конница» . В этой статье автором был убедительно опровергнут один из мифов старой историографии о военно-технической отсталости русского войска. Кроме того Денисова М.М. основе архивных данных дает описание реального внешнего вида и вооружения поместной коннице в 17 веке.
Глава I. Вооруженные силы Московского государства в первой половине XVII века
Боярское и дворянское войско
Основой вооруженных сил Московского государства было поместное войско, которое состояло из дворян и детей боярских. Во время войны они выступали с великим князем или с воеводами, а в мирное время являлись помещиками и получали за службу земли в условное держание.
Предпосылки для появления поместного войска появляются ещё во второй половине XIV века, когда на смену младшим и старшим дружинникам стали приходить феодально организованные группы, во главе которых стоял боярин или служивый князь, а в группу входили дети боярские и дворовая челядь. В XV веке такая организация отрядов заменила городские полки. В результате войско составляли: великокняжеский двор, дворы удельных князей и бояр. Постепенно в состав Великого княжества Московского входили новые удельные княжества, дворы удельных князей и бояр распускались, а служилые люди переходили к великому князю. В результате вассалитет князей и бояр был преобразован в государевых служилых людей, за службу в условное держание (реже - в вотчину) получавших поместья. Таким образом образовалось поместное войско, основную массу которого составляли дворяне и дети боярские, а также их боевые холопы.
Дети боярские, как класс, сформировавшиеся в начале XV века, изначально были не очень крупными вотчинниками. Они были «закреплены» за тем или иным городом и стали привлекаться князьями для военной службы.
Дворяне сформировались из слуг княжеского двора и поначалу играли роль ближайших военных слуг великого князя. Как и дети боярские, за службу они получали земельные участки.
В Смутное время поместное войско, поначалу, могло противостоять войскам интервентов. Однако положение усугубили крестьянские восстания Хлопка и Болотникова. Не пользовались популярностью также цари Борис Годунов и Василий Шуйский. В связи с этим помещики бежали из войска в свои имения, а некоторые даже переходили на сторону интервентов или восставших крестьян. Поместное ополчение, возглавленное Ляпуновым, выступило в составе Первого народного ополчения в 1611 году, которое не состоялось. В этом же году дворяне и дети боярские вошли в состав Второго народного ополчения под руководством князя Пожарского, как его наиболее боеспособная часть. На покупку коней и вооружения им было определено жалование от 30 до 50 рублей, собранное на народные пожертвования. Общая численность служилых людей в ополчении составила около 10 тысяч, а численность всего ополчения - 20-30 тысяч человек. В следующем году это ополчение освободило Москву.
Смутное время привело к кризису поместной системы. Значительная часть помещиков стала пустопоместной и не могла получать обеспечение за счёт крестьян. В связи с этим правительство принимало меры по восстановлению поместной системы - производило выплаты денежного жалования, вводило льготы. Ко второй половине 1630-х годов боеспособность поместного войска удалось восстановить.
Численность войска в XVII веке может быть установлена благодаря сохранившимся «Сметам». В 1632 было 26 185 дворян и детей боярских. По «Смете всяких служилых людей» 1650-1651 годов в Московском государстве было 37 763 дворян и детей боярских, а оценочная численность их людей - 40-50 тысяч. К этому времени поместное войско вытеснялось войсками нового строя, значительная часть поместных была переведена в рейтарский строй, и к 1663 году их численность уменьшилась до 21 850 человек, а в 1680 составляла 16 097 человек сотенной службы (из которых 6385 - московских чинов) и 11 830 их людей.
В мирное время помещики находились в своих поместьях, а в случае войны должны были собираться, на что уходило много времени. Иногда на полную подготовку ополчения к военным действиям уходило более месяца.
В поход отправлялись со своим продовольствием.
Поместное войско имело ряд недостатков. Одним из них было отсутствие систематического военного обучения, что отрицательно сказывалось на его боеспособности. Вооружение каждого человека оставалось на его усмотрение, хотя правительство давало рекомендации на этот счёт. Другим важным недостатком была неявка на службу и бегство с неё - «нетство», которое было связано с разорением поместий или с нежеланием людей участвовать в определённой войне. Особых размахов оно достигло в Смутное время. Так, из Коломны в 1625 году из 70 человек прибыло только 54. За это им снижали поместный и денежный оклад (за исключением уважительных причин неявки - болезни и других), а в некоторых случаях поместье полностью конфисковывали. Однако, в целом, несмотря на недостатки, поместное войско проявляло высокий уровень боеспособности. Тактика поместной конницы была основана на скорости и сформировалась под азиатским влиянием в середине XV века. Первоначально её основной целью являлась защита православного населения от набегов, главным образом, тюркских народов. В связи с этим несение береговой службы стало важнейшей задачей ратных людей и своеобразной школой их боевой подготовки. В связи с этим основным оружием конницы был лук, а оружие ближнего боя - копья и сабли - играли второстепенную роль. Русская стратегия отличалась стремлением избежать крупных столкновений, которые могли бы привести к потерям; отдавалось предпочтение различным диверсиям из укреплённых позиций. Основными формами боя были: лучный бой, «травля», «напуск» и «съёмный бой» или «сеча великая». В «травле» принимали участие только передовые отряды. Во время неё начинался лучный бой, нередко в форме степной «карусели» или «хоровода»: отряды русской конницы, несясь мимо противника, проводили его массовый обстрел. За лучным боем обычно следовал «напуск» - атака с использованием контактного холодного оружия; причём начало атаки могло сопровождаться лучной стрельбой. В ходе прямых столкновений производились многократные «напуски» отрядов - они атаковали, в случае стойкости противника - отступали, чтобы завлечь его на преследование или дать место для «напуска» другим отрядам. В XVII веке способы боя поместного войска изменились под западным влиянием. В ходе Смутного времени оно перевооружилось «езжими пищалями», а после Смоленской войны 30-х годов - карабинами. В связи с этим стал применяться «бой стрелбою» из огнестрельного оружия, хотя лучный бой также сохранился. С 50-60-х годов атаке конницы стал предшествовать залп из карабинов. Основным клинковым оружием была сабля. Преимущественно они были отечественные, но применялись и импортные. Особенно ценились западноазиатские булатные и дамасские сабли. По типу клинка они подразделяются на массивные киличи, с яркой елманью, и более узкие сабли без елмани, к которым относятся как шамширы, так, вероятно, и местные восточноевропейские типы. В Смутное время получили распространение польско-венгерские сабли. Изредка использовались кончары. В XVII века распространяются, хоть и не широко, палаши. Дополнительным оружием были ножи и кинжалы, в частности, специализированным был подсадачный нож.
Дворянская конница вплоть до Смутного времени широко вооружалась топориками - к ним относились топорики-чеканы, топоры-булавы и разнообразные лёгкие «топорки». В XVII веке некоторое распространение получают связанные с турецким влиянием грушевидные булавы, однако они имели преимущественно церемониальное значение. На протяжении всего периода воины вооружались перначами и шестопёрами, однако назвать их широко распространённым оружием сложно. Часто использовались кистени. Основным оружием поместной конницы с конца XV до начала XVII веков был лук со стрелами, который носился в комплекте - саадаке. Это были сложносоставные луки с сильно профилированными рогами и чёткой центральной рукоятью. Для изготовления луков использовались ольха, берёза, дуб, можжевельник, осина; они снабжались костяными накладками. На изготовлении луков специализировались мастера-лучники, саадаков - саадачники, стрел - стрельники. Длина стрел составляла от 75 до 105 см, толщина древок - 7-10 мм. Наконечники стрел были бронебойные, рассекающие и универсальные. Огнестрельное оружие присутствовало в поместной коннице изначально, однако встречалось крайне редко, по причине его неудобности для всадников и превосходства лука по многим параметрам. Со Смутного времени, дворяне и дети боярские предпочитали пистолеты, обычно импортные с колесцовым замком; а пищали и карабины отдавали своим боевым холопам. Поэтому, например, в 1634 году правительство предписывало тем служилым людям, которые вооружены только пистолетами, приобрести более серьёзный огнестрел, а тем, кто вооружён саадаком, запастись и пистолетами. Эти пистолеты применялись в ближнем бою, для стрельбы в упор. С середины XVII века в поместной коннице появляются винтовальные пищали и особое распространение получают на востоке Руси. Основным доспехом была кольчуга, а, точнее, её разновидность - панцирь. Широкое распространение имел также кольчато-пластинчатый доспех. Реже применялись зерцала; гусарские и рейтарские латы. Богатые воины нередко носили несколько доспехов. Нижним доспехом обычно был кольчужный панцирь. Под шелом иногда одевали шишак или мисюрку. К тому же металлические доспехи, бывало, комбинировали с тегиляями. Поместное войско было упразднено при Петре I. На начальном этапе Великой Северной войны дворянская конница, под руководством Б. П. Шереметева нанесла ряд поражений шведам, вместе с тем, её бегство было одной из причин поражения в битве при Нарве в 1700 году. В начале XVIII века старая дворянская конница вместе с казаками ещё фигурировала среди полков конной службы и принимала участие в различных боевых действиях. Однако Петр I не смог сразу организовать боеспособную армию. Поэтому пришлось совершенствовать новую армию, чтобы привести её к победам, в которых старые войска всё ещё принимали значительное участие в начале XVIII века. Окончательно старые части были ликвидированы к середине XVIII века.
Стрелецкое войско
В 1550 году на смену пищальникам-ополченцам пришло стрелецкое войско, первоначально состоявшее из 3 тысяч человек. Стрельцов разделили на 6 «статей» (приказов), по 500 человек в каждой. Командовали стрелецкими «статьями» головы из детей боярских: Григорий Желобов-Пушешников, думный дьяк Ржевский, Иван Семенов сын Черемесинов, В. Фуников-Прончищев Ф. И. Дурасов и Я. С. Бундов. Детьми боярскими были и сотники стрелецких «статей». Расквартировали стрельцов в пригородной Воробьевой слободе. Жалованье им определили по 4 руб. в год, стрелецкие головы и сотники получили поместные оклады. Стрельцы составили постоянный московский гарнизон. Первые стрельцы, вероятно, были организованы из числа лучших пищальников. Они принимали участие в походах и сражениях в военное время в составе войска, они первыми шли на приступ, штурмуя города. Старший командный состав определялся только из числа служилых людей «по отечеству» – дворян и детей боярских. Жалование стрелецкого головы, командовавшего приказом (полком), составляло 30-60 руб. ежегодно, кроме того, он получал большой поместный оклад, равный 300-500 четвертей земли. Гарнизоны городовых стрельцов располагались главным образом в пограничных городах. Их численность составляла от 20 до 1000 человек, а иногда больше. Отличительной особенностью стрелецких войск была их мобильность, вследствие чего их зачастую переводили для усиления определенного участка границы. Например, в летний период на южную окраину перебрасывались значительные стрелецкие войска из Москвы, а также пограничных северо-западных русских городов. Данные части должны были усилить оборону рубежей, которые часто подвергались татарским и ногайским нападениям. В поход на Дон 1630 г. были направлены стрельцы и казаки из войск южнорусских крепостей. Всего 1960 человек. Из других городов брали больше половины имевшихся там приборных людей. Зачастую наиболее опытные в военном деле стрельцы из пограничных городов перенаправлялись на «годовую» службу в менее защищенную пограничную крепость. В подобных ситуациях их старались заменять в своем городе служилыми людьми, переброшенными из более спокойных в военном отношении уездов. Городовые стрельцы несли гарнизонную службу и в мирное и в военное время. Их обязанностью была охрана крепости и острога. Они держали караул у стен, на башнях, у городских и острожных ворот, около правительственных учреждений. Главная роль для них отводилась в обороне городов. Функции стрельцов были разнообразны. Их могли посылать как стражников за «нетчиками», на селитряные промыслы; в качестве сопровождающих при послах, а также сопровождения различных припасов, денежной казны, преступников; стрельцы привлекались к исполнению судебных приговоров. В военное время городовые стрельцы отдельными приказами или сотнями назначались в разные полки войска. Практически все стрельцы, за небольшим исключением, несли службу в пешем строю. Что касается дальних походов, то туда, как правило, отправлялись на подводах. Конную службу несли московские «стремянные» стрельцы, стрельцы в Осколе, Епифани, Астрахани, Терках, Казани, Черном Яре, Царицыне, Самаре, Уфе Саратове. Стрельцы, несущие конную службу, получали лошадей из казны или деньги на их покупку.
Каждый стрелец был вооружён пищалью, бердышом, иногда саблей (позднее - шпагой), которую носили на поясной портупее. Также из снаряжения у него были перевязь с привешенными к ней пенальчиками с пороховыми зарядами, сумка для пуль, сумка для фитиля, рог с порохом для натруски пороха на зарядную полку пищали. На вооружении стрельцов были гладкоствольные фитильные, а позднее - кремнёвые пищали. Что интересно, в 1638 году вяземским стрельцам были выданы фитильные мушкеты, на что те заявили, что «они из таких мушкетов с жаграми стрелять не умеют, и таких мушкетов преж сево у них з жаграми не бывало, а были де у них и ныне есть пищали старые с замки». В то же время фитильное оружие сохранялось и, вероятно, преобладало до 70-х годов XVII века. Собственное производство винтовальных пищалей началось к середине XVII века, а с 70-х годов ими стали снабжать рядовых стрельцов. В частности, в 1671 году стрелецкому полку Ивана Полтеева было выдано 24; в 1675 отправлявшимся в Астрахань стрельцам - 489 винтовок. В 1702 году у тюменских стрельцов винтовки составляли 7 %.
К концу 1670-х годов, в качестве дополнительного оружия иногда применялись длинные пики, однако существование пикинёров остаётся под вопросом. Шпага становится основным клинковым оружием. Стрелецкие полки имели единообразную и обязательную для всех парадную форму («цветное платье»), состоявшую из верхнего кафтана, шапки с меховым околышем, штанов и сапог, цвет которых (кроме штанов) регламентировался согласно принадлежности к определённому полку. Парадная форма одевалась только в особые дни - во время главных церковных праздников и при проведении торжественных мероприятий. Для выполнения повседневных обязанностей и в военных походах использовалось «носильное платье», имевшее тот же покрой, что и парадная форма, но сделанная из более дешевого сукна серого, чёрного или коричневого цвета.
Казачье войско
Начиная с XVII в. донские казаки использовались для защиты южных границ государства, а также в войнах с Турцией и Польшей. Правительство выплачивало казакам жалование за службу деньгами, а также в виде хлеба, сукна, пороха, свинца. С 1623 г. делами Донского казачьего войска стал ведать Посольский приказ, с которым оно сносилось посылкой «легких» и более долговременных «зимовых станиц». В 1637 г. казачье войско захватило у турок Азов и удерживало его в течении пяти лет, выдержав при этом осаду, которая длилась 3,5 месяца. Донские казаки участвовали также в Азовских походах 1695-96 гг.
Казаки составляли третью основную группу войска после поместного и стрелкового войск. Казачество оставалось решающей по своей численности вооруженной силой Московского государства после того, как было распущено народное ополчение.
В связи с тем, что правительство не доверяло казакам и пыталось сократить их число, отделяя от них крестьян и холопов, в итоге в составе войска количество служилых казаков насчитывало около 11 тыс. человек. Власти выслали большинство казаков из Москвы в другие города на городовую службу вместе со стрелецкими войсками. Расселенные по разным городам, казаки утратили и свою военную организацию. Показателем казацкой вольности стало их объединение в станицы во главе с выборными атаманами.
Государство стремится подчинить себе казаков. Городовым воеводам было велено расписать казаков в сотни, также как и других служилых людей, и назначить к ним голов. В результате чего казаки лишились станичной организации и атаманов.
Устройство казачьего войска стало сотенным, сотни, подобно стрелецким, сводились в приказы. В основном теперь казаки подчинялись стрелецким головам, а в некоторых городах – детям боярским. Что касается размеров жалованья казаков, то в 1613 г. псковским казакам платили по 10 руб. атаманам, по 8 руб. есаулам и 6 руб. рядовым. Кормовое жалование собиралось с населения Пскова, что вызывало недовольство жителей и не всегда хватало на всех казаков. Государственных запасов не хватало. Для облегчения содержания казаков правительство заменяло кормовое жалование землей. Во времена правления Михаила Романова земельное жалование казаков было не большим и предназначалось главным образом для атаманов, в результате чего образовалась целая группа поместных атаманов, состояние и положение которых практически сравнялось с материальным положением детей боярских.
Вследствие того, что землю было трудно обрабатывать в условиях военного времени, казаки не ценили земельное пожалование. Однако после войны оно стало цениться, и казаки добивались права передачи своих земель детям и родственникам. За службу и осадное сидение государство отдавало некоторым группам казаков землю в поместное владение, тем самым уравнивая их материальное положение и службу с детьми боярскими.
Казаки с поместным владением составляли около 15% всех служилых казаков, большая часть которых по своему материальному положению приближалась к стрельцам и другим служилым приборным людям. Казаки-помещики получали земельное и денежное жалованье немного выше, чем стрельцы, но в льготах они были равны. Отдельно появилась группа беломестных казаков, оклады которых составляли от 20 до 30 четвертей в поле. По челобитным государство давало им льготы в виде освобождения налогов и повинностей казачьих дворов и земельных участков или поселяло их на таких участках.
Обучение было тяжёлым и постоянным. Лет с трёх-пяти казачок приучался к верховой езде. Стрелять учили с семи лет, рубить шашкой с десяти. Сначала спускали тонкой струйкой воду и «ставили руку», чтобы клинок под правильным углом резал воду, не оставляя брызг. Потом учили «рубить лозу», сидя на коновязи, на бревне, и только потом на боевом коне, по-боевому, по-строевому осёдланном. Рукопашному бою учили с трёх лет. Передавая особые, в каждом роду хранящиеся приёмы. Мальчика воспитывали гораздо строже, чем девочку, и жизнь его с раннего детства была заполнена трудом и обучением. С пяти лет мальчишки работали с родителями в поле: погоняли волов на пахоте, пасли овец и другой скот. Но время для игры оставалось. И крёстный, и атаман, и старики следили, чтобы мальчонку «не заездили», чтобы играть позволяли. Но сами игры были такими, что в них казак обучался либо работе либо воинскому искусству. Сыновьям казачьих офицеров времени на детские игры отпускалось меньше, чем сыновьям простых казаков. Как правило, с пяти-семилетнего возраста отцы забирали их в сменные сотни, полки и увозили с собой на службу, часто и на войну. Именно приобретённые в счастливые годы детства навыки помогали стать казаку лучшим в том ремесле, для которого он был рождён - военной службе. Принцип сбора был совершенно средневековый, ордынский. Атаман выбирал из числа богатых и известных казаков полковых командиров. Им давалось предписание о сборе полка своего имени. В предписании говорилось, из каких станиц брать казаков. Давалось также несколько мундиров для образца, сукно на весь полк, седельные щепы, ремни, весь материал для снаряжения и 50 опытных боевых казаков для обучения новобранцев-малолеток. Командиру полка указывали день и место, куда должен быть приведён сформированный полк. Далее в его распоряжения власти не вмешивались. Полковой командир был хозяином и создателем своего полка, он делал представления о производстве в офицерские чины и ставил урядников, писал устав на основании личного опыта или опыта старших, если был молод. Но поскольку в полку бывали казаки и старше и опытнее его, то действовали они вполне самостоятельно, по здравому смыслу. Дисциплина была в исключительно ответственном отношении казака к исполнению своего воинского долга. У казаков были очень малые потери в боях, поскольку воевали они рядом со своими станичниками: зачастую дед, отец и внуки в одном строю. Они оберегали друг друга и скорее позволяли убить или ранить себя самого, чем своего товарища. Одна серьга в ухе казака служила знаком, что данный мужчина - один сын в семье, таких берегли в бою, в случае гибели некому будет продолжить род, что считалось большой трагедией. Если предстояло смертельно опасное дело, не командир решал, кому на него идти: иногда это были добровольцы, но чаще дело решал жребий или розыгрыш. Хорошо вооружённые воины, которые с самого рождения обучались своему ремеслу, отлично владевшие различными боевыми навыками, в том числе и тактическими, умеющие быстро выполнять поставленные задачи - всё это, в совокупности, делало казаков абсолютно незаменимыми для русской армии. Таким образом, подводя общий итог состоянию вооруженных сил России в первой половине XVII в., необходимо отметить следующее. Московское правительство, руководствуясь в вопросах военного строительства привычными идеями, не оставалось в стороне от новомодных веяний и не без успеха попыталось применить их на практике в ходе конфликтов с Речью Посполитой и татарами. Полностью отказаться от старой военной системы власть была еще неспособна в силу различных причин. Однако при всей ограниченности шагов по реформированию военной сферы, предпринятых при Михаиле Федоровиче, русскими был накоплен ценнейший опыт создания армии "новой модели", который потом с успехом был использован его сыном Алексеем Михайловичем.